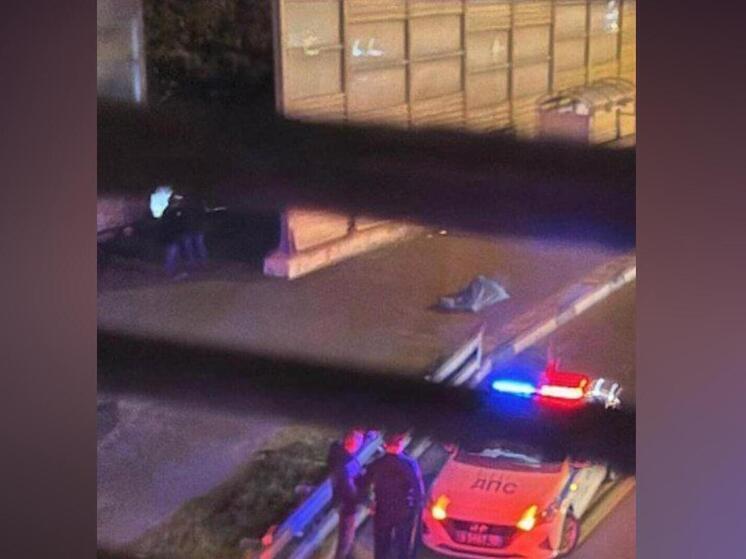За творчеством известного краеведа Павла Иванова наши читатели следят давно. В его материалах подкупает сопереживание и детализированная завершенность всего того, что он рассказывает. Нынешняя публикация особо актуальна в связи с перенесением мощей святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского из Воскресенского собора в восстановленный Спасо-Преображенский кафедральный собор.
Тверь спасла епархия
С конца XVI века для Твери, как и для всего русского Северо-Запада, наступили плохие времена. Когда-то великий город, столица независимого княжества, совсем обезлюдел. От мора и голода и военных бедствий одни династии иконописцев вымерли без остатка, другие закончили свои дни постриженниками больших и малых монастырей, третьи сбежали в более благополучные места – если эти благополучные места где-то существовали. Последствия Смуты, а особенно великая чума 1654-1655 годов окончательно низвели столицу великого княжества на положение второразрядного города.
Тверь спасла епархия. То обстоятельство, что, несмотря на все бедствия, епископская кафедра упорно оставалась в Твери, не будучи упраздненной никогда, благотворно влияло на культурную жизнь города. Кафедра клянчила у правительства средства на вспоможение и поддержание в порядке нескольких святых мест – кафедрального собора в первую очередь; она регулярно производила косметические ремонты храмов, где находились гробы чудотворцев, хотя бы тех трех, которые официально были канонизированы (святые Михаил и Арсений Тверские и Макарий Калязинский). Московские патриархи, в том числе умный и дальновидный Никон, поддерживали эти местные инициативы. Было время, когда тверские иерархи больше времени проводили на своем московском подворье, чем в кафедральном городе. Но так или иначе епархия с центром в Твери выжила.
Двор тверского архиепископа в XVII веке внешне по форме, да и по сути своей был монастырем – с таким же, как в монастырях, хозяйством, экономами и келарями, сонмом служителей, складами и запасами, двумя-тремя церквями, имевшими разное назначение. Архиерейский дом был, наряду с Троицким Калязиным монастырем, единственным местом, где в XVII веке в тверском крае велось планомерное каменное строительство. Оно неизбежно вызывало необходимость иметь мастеров разных специальностей: каменщиков, плотников, кузнецов, штукатуров, столяров, иконописцев, резчиков.
Начиная с 1670-х годов жизнь в Твери понемногу налаживается. После серьезного пожара 1669 года новых бедствий такого масштаба не было аж до середины 1730-х годов, а за это время кафедра поднакопила «жирок». Если при архиепископе Ионе в 1650-х годах весь круг помощников архиерея насчитывал всего несколько человек, то при Митрофане спустя сто лет вокруг владыки вертелось уже более полусотни как лично свободных, так и крепостных служителей, не считая собственно владычных крестьян, которых было в несколько раз больше.
Фома и Макарий
Очень важным рубежом в жизни Тверской епархии стало 18 мая 1696 года. В этот день был освящен новый Спасо-Преображенский кафедральный собор в Твери. Несмотря на ремонты и починки, он полностью сохранялся до весны 1935 года. Двадцать семь икон или их фрагментов (из шестидесяти шести) сохранились до нашего времени. Иконостас почти не имел резьбы (резчиков в тот момент у кафедры в нужном количестве, видимо, не было), но зато доски были громадные, центральные иконы превосходили три, а то и четыре метра в высоту (ни одна из них, увы, не сохранилась).
В отношении качества письма тверской иконостас вышел неожиданно великолепным. Архиепископ Сергий (Валтухов) где-то раздобыл мастера (мастеров) высшей квалификации.
Хотя бы часть этих мастеров были осташами, как и сам владыка. В 1709 году, согласно переписной книге Твери, «в городе… в осадном дворе Марьи Васильевской жены Квашнина, а на нем живет в дворничестве иконописец Осташковской слободы Иосифовского монастыря крестьянин Фома Потапов сын Митин 50 лет. У него два сына Иван, 23 лет женат… Иван 12 лет». (Штурук Г.В. История памятника архитектуры XVI века в городе Калинине церкви «Белая Троица». Тверь, 2013. С. 406-407.)
Кроме Фомы для тверского собора, вероятно, трудился еще один мастер из Осташкова. Его звали Макарий Потапов (имя монашеское), и, кажется, именно он был самым талантливым из братьев Потаповых-Митиных. В 1672, 1677, 1678, 1679 годах и позже он вызывается в Оружейную палату для государевых заказов (кормовым иконописцем), что говорит об признании его таланта на общероссийском уровне. Больше никто из Потаповых этой чести не сподобился. До революции в соборах Осташкова хранились подписные иконы «письма Макария да Фомы Потаповых» 1690 года, храмовая Троица в Троицком соборе имела подпись: «Макарийиконник чернец писах» (тоже в 1690 году). (Барсегян Т.В. Нилова пустынь. Монастырь и мир. М., 2017. С. 646.) Из братьев Потаповых он был, очевидно, самый старший, родился не позже начала 1640-х годов (Фома самый младший, около 1660 года рождения).
Все говорит за то, что после ухода из Оружейной палаты в связи с общим сокращением этого учреждения Макарий жил в семье кого-то из своих братьев, и, судя по двойной подписи икон 1690 года, как раз у Фомы. Он скончался не ранее конца 1690-х годов, и участие его в создании тверского иконостаса вполне ожидаемо. Среди всех мастеров, имевшихся тогда в родном городе владыки Сергия (и живших в Твери, добавим!), невозможно было найти лучшего.
Две иконы его известны сейчас – одна в Русском музее (с датой – 1692 г.) и другая – царский дар в монастыре святой Екатерины на Синае. И лик Богоматери из Благовещения на ней как две капли воды похож на прекрасный лик Пречистой Девы в молении на иконе из тверского Спасо-Преображенского собора.

Осташков не пострадал от великой чумы 1650-х годов, и его население рано дифференцировалось на семьи, производившие специалистов «узкого профиля» - в том числе резчиков и иконников. Изобилие мастеров в Осташкове логично вызывало их миграцию в соседние города, где они, наверное, не оставались без учеников.
Известен, например, в Твери при том же архиепископе Сергии «изограф Иван Перфильев», брат владычного дьяка Герасима Перфильева, вложивший в собор Оршина монастыря икону «Отечество» в 1689 году (Синодик Оршина монастыря (ГАТО ф. 1409, оп. 1, №1776. Л. 151)). Икона эта утрачена. Вообще трудно сейчас распределить сохранившиеся произведения среди известных только по именам мастеров. Это же касается сохранившихся иконостасов - в церкви "Белая Троица" в Твери и в Успенской церкви в селе Завидово. Самые ранние иконы в "Белой Троице" датируются 1690-1700-ми годами, и они продукт, скорее всего, мастерской Потаповых или их учеников.
Произведения из завидовского храма, созданы, скорее всего, заезжими малороссами. Это хорошие иконы очень стильного, совершенно непривычного тогда в Твери письма 1710-х годов, времен, когда при архиепископе Варлааме (Косовском) украшался нижний ряд Спасо-Преображенского собора. Соборные иконы варлаамовского времени не уцелели, но по стилю они были, наверное, такими, как в Завидово, может быть, получше по исполнению.
Московские кадры владыки Митрофана
Малороссийское влияние было в Твери могучим, но мимолетным явлением. С отъездом Варлаама в Смоленск в 1720 году целая плеяда архиерейских служителей, сплошь «польских выходцев» (то есть из Речи Посполитой), которые были поселены (видимо, по удобству квартир) в Николо-Малицком монастыре и которых знает перепись 1717 года, исчезает из него бесследно. В 1722 году никого из них, судя по первой ревизии, там уже не было.
Затихли и все художественные работы – вплоть до появления в Твери «многоделательного» (как о нем отзывается учитель Иван Евдокимов) владыки Митрофана (Слотвинского). Это произошло в 1736 году.
Митрофан развернул бурное благоустройство в кафедральном соборе в 1740-х годах, о котором теперь напоминает только сохранившаяся роскошная рака святого благоверного князя Михаила 1748 года, изготовленная в Москве. Но до 1930-х годов кроме этой раки памятником его в Твери была богатая лепнина в соборе (в алтаре – попроще, а над входом и над собственно ракой – прямо роскошная). Митрофан уже не пользовался заезжими «поляками», в его распоряжении были московские кадры, выученики Заиконоспасской академии, в которой он состоял ректором до назначения в Тверь. Это были и русские, и белорусско-украинские мастера, которых мы, как обычно, не знаем по именам (вернее, пока документов об этом не обнаружено).
По странной случайности (случайности ли?) очередной слой сохранившихся тверских произведений датируется именно 1740-ми годами, ни раньше ни позже. Это праздники из "Белой Троицы" и иконостасы из Селихово и Городни.
В Городне сохранились не только иконы. Замечательны лепные воины из «темнички» (специального уголка для скульптуры «Спаса полунощного» (скорбящего), оформленного как «темница»). Эта вещь в середине - второй половине XVIII века создана, наверное, теми же лепщиками, которые работали и в тверском соборе. Как это часто бывает, крупный заказ вызвал к жизни некоторое оживление в местном художественном мире, а также настойчивые попытки церковных властей насадить повсеместно именно породистое столичное искусство.
В этот период у кафедры имелся как минимум один собственный профессиональный лепщик-декоратор – Иван Карпов Коробков, мастер из тверских крестьян. Он выполнил лепные работы в Троицком соборе в Осташкове в 1775-1778 гг., вероятно, принимал участие в создании сохранившейся и частично воссозданной в наши дни барочной лепнины в церкви Покрова в Твери (конец 1770-х гг., правда, при реставрации 2003 года приходское руководство не удержалось и испортило эту лепнину аляповатыми современными росписями).
Появились несколько своих мастеров, оцененных как подходящие для важного государственного заказа – создания образов для церкви Воскресения в Царском Селе (работали они там в 1753 году в составе большой группы мастеров из Торопца, Новгорода, Осташкова, Валдая и Твери). Тверских мастеров звали Василий Воронин и Дмитрий Андреевич Крыжев. Крыжев родился в 1730 году, по Воронину пока сказать ничего нельзя, но не был ли Крыжев его учеником?
В 1774 году был отремонтирован Спасо-Преображенский собор. Его ремонт стал площадкой, на которой повысили квалификацию тверские художники, в первую очередь Дмитрий Крыжев, который возглавлял местных мастеров, работавших в помощниках у каких-то приглашенных московских живописцев, и Михей Тихонов, затем расписавший Троицкий собор в Осташкове (1778 г., эта роспись частично сохранилась). Кроме того, сохранились сплошные записи на иконах праздников Спасо-Преображенского собора, датируемые также 1774 годом. Время от времени на аукционах и в частных коллекциях всплывают иконы тверских мастеров, в частности, и Дмитрия Крыжева. Поиск и публикация памятников продолжаются.