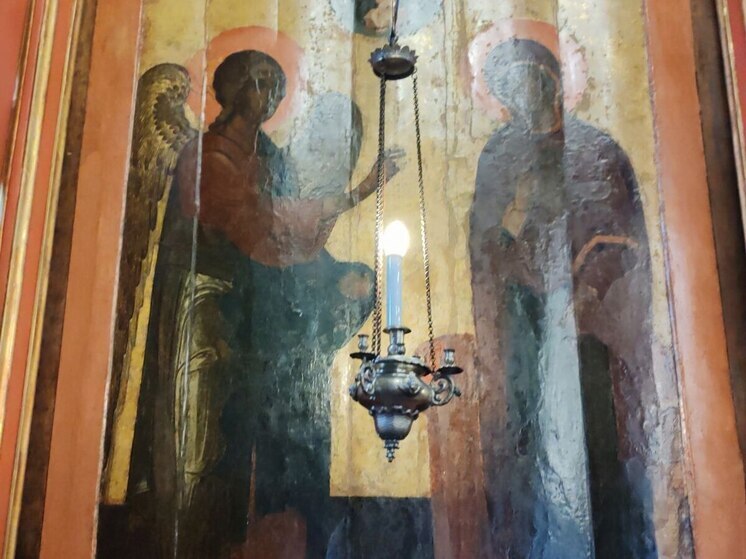В одном из прошлых выпусков нашей газеты была опубликована статья про уникальную коллекцию, собранную выходцем из тверской глубинки. Александр Вихров собрал более полутора тысяч предметов, связанных с Наполеоном Бонапартом. Но, как нередко бывает, за коллекцией стоит еще более интересная история личности ее обладателя, и мы просто не можем не рассказать ее. Наш герой родился в небольшой деревне Горка Андреапольского района, но покорил Москву, стоял у истоков PR в России, долгое время работал журналистом, имеет ученую степень. Всего и не перечислишь, так что передадим ему слово.
Человека можно вырвать из деревни, но деревню из человека никогда. Именно эти слова были сказаны нашим собеседником в ответе на вопрос о малой родине.
- Представьте: я родился через семь лет после окончания Великой Отечественной войны. На окраине поселка находились такие огромные воронки от авиабомб, что мы детьми скатывались туда на санках.
В нашей семье главным действующим лицом была мама. Еще девчонкой, до войны, она уехала из своей деревни в Ленинград, где и пережила блокаду. Вернулась в родные места уже после войны. Город наложил свой отпечаток на ее отношение к жизни. После блокады у нее появилась почти маниакальная страсть к чистоте, и одно из ярких воспоминаний, как мы с мамой и братом в лютый мороз полоскали на речке в проруби белье.
Родители работали в конторе леспромхоза. Жили мы в непростых деревенских условиях с печкой и удобствами во дворе. Тягот не ощущали - ничего особенного, многие и сейчас так живут. Можно сказать, детство было счастливым. Но только до первого класса школы. Я - левша, тогда заставляли переучивать таких детей. Я быстро читал, хорошо считал, а вот цифры и буквы правой рукой писать не мог. Это оказалось кошмаром для всей семьи. В классе ученики ябедничали учительнице: «А Вихров опять левой рукой пишет». Освоил письмо только к концу учебного года. Но ведь научился! Думаю, это укрепило мою уверенность в себе характер и научило, как важно ставить и добиваться целей. Наверно, именно тогда я понял, что могу преодолевать трудности, и это меня, говоря высоким слогом, окрылило. А позже я научился ставить себе цели и идти к ним.
Я сегодня учу этому своих студентов в финансовом университете: думайте всегда на один шаг вперед, ставьте достижимые цели. Когда научитесь чему-то новому, вы этой цели достигнете. Или нет. Но не останавливайтесь, ставьте новую. Вы будет интересно жить, меняться - обучаясь, иметь дело со все более сложными проектами. Важно двигаться к задачам большей значимости.
- А что, как вы считаете, помогло научиться ставить такие высокие цели и добиваться их?
- Любознательность. Это качество не врожденное, а приобретенное. Несколько лет подряд на все лето меня отправляли к бабушке в деревню. Детей моего возраста там не было, но в старом, еще барском, доме находилась начальная школа, а когда-то она была восьмилетней. Там стоял огромный шкаф с книгами. Мне дали ключи… Читал все подряд, когда закончилась художественные, добрался до учебников на следующий год.
Еще я многим обязан учителю истории Эдуарду Эдуардовичу Шимкевичу. Он обладал удивительно притягательной силой. Замечательно, что его именем назван Андреапольский краеведческий музей. С Шимкевичем мы всем классом ходили в походы. Именно он предложил мне написать про нашу экспедицию к истоку Западной Двины в районную газету. Заметку напечатали, что стало в мои 12 лет началом журналистской карьеры.
Любознательность раскрывает картину мира. Я побывал в 96 странах, в разных, нередко экстремальных условиях. Например, матросом на маленькой яхте в Норвегии, где мы попали в 8-балльный шторм. Или в глухих местах в Китае. Да, бывает страшно, но страх, как и усталость, проходит, а впечатления остаются. Однако я встречал в своей жизни много людей, обладающих уникальными способностями, которые между тем не смогли проявить себя. Нужно воспитывать в себе еще и готовность к переменам.
- Перемены – такое важное слово в вашей биографии. Расскажите об этой своей профессиональной трансформации.
- Я работал как журналист в тверских изданиях. Первой была молодежная газета «Смена». И мы все – молодые, амбициозные. Атмосфера полной раскованности и творчества. Редактор, мой друг-земляк, андреапольский, – Валерий Кириллов. Он постарше и уже тогда мудрее, это нас порой оберегало. Интересную делали газету. В обкоме партии кураторы часто нас ругали – то за статью о «Rolling Stones», то об Анне Ахматовой.
Новый поворот – обком комсомола. Я попал туда, можно сказать, случайно: требовался сотрудник, который умел бы работать со словом – писать документы, доклады и прочее. Должность солидная - завотделом пропаганды. Предложили – решил попробовать. Но я так и не стал подлинным функционером, благо их хватало без меня. Увлекательно было общаться с творческой молодежью – наши фестивали для многих стали социальным лифтом. Думаю, мои сверстники из тверских театров хорошо помнят эти годы. И художники тоже – ныне такие известные, как народный художник России Людмила Юга.
Первый секретарь обкома комсомола Валентин Соколов сам был человек инициативный, творческий, сам хорошо владел словом. С ним работалось легко. Но он перешел на партийную работу, а здесь стал у руля мой земляк – выдвиженец из Андреаполя. Агроном, кажется, по специальности. Во времена, когда областью руководил Павел Артемович Леонов, такие волюнтаристские назначения происходили повсеместно. Я знал этого земляка как скромного, работящего парня. Но он быстро вошел в роль большого начальника. За него приходилось писать все и даже расставлять в словах ударения. Мне это скоро надоело. Однажды нужно было написать статью в журнал «Политическая агитация» - да, существовал и такой - к дню рождения комсомола. Я принес земляку свой текст. Наверно, меня уже до такой степени эта писанина достала, что и он почувствовал это. Говорит: «Да, не вложил ты, Александр, в эту статью свою душу…». А через пару недель мы столкнулись с ним на почте – он получал перевод из журнала – гонорар за мою статью! Меня это просто взбесило. А тут еще товарищи из обкома партии намекнули, что пора собираться к ним – там тоже обнаружилась нужда в «писателях». Не дожидаясь, я вернулся в журналистику, на зарплату почти втрое меньше обкомовской. Это был осознанный выбор.
Мы остро выступали за демократизацию общества. С особым накалом, когда редактором стал Валерий Кириллов. Теперь уже в обкоме партии стали побаиваться нас. Чего стоил, например, мой спор по поводу свободы слова с тогдашним министром внутренних дел Борисом Карловичем Пуго на его встрече с партийным активом области. Правда, в газету это тогда не попало.
- В Твери вы занимались публицистикой, писали статьи, издали книгу очерков, а в Москве резко сменили направленность. Почему?
- Москва очень быстро приобретала капиталистические черты. Я стал писать о том, что вызывало у людей наибольшее беспокойство и интерес, – о приватизации, рыночных отношениях. Самому учиться на ходу, разбираться в тонкостях экономики. Еженедельник, редактором которого я тогда стал, по профилю – рекламно-коммерческий. Эпоха перемен создает возможности, но и нестабильность. Мы из номера в номер рассказывали, как зарабатывать, развивать бизнес в новых условиях. И заметили это… американцы. Госдеп выделил средства в рамках технической, то есть безвозмездной помощи в продвижении рыночных реформ в России. Занимались этим несколько американских компаний. Это совместная программа Комиссии по экономической реформе при Правительстве России и Агентства по международному развитию USAID. Нужно было организовать федеральную информационно-разъяснительную кампанию - раньше в нашей стране никогда таких не делали. Потребовались люди со знанием российской специфики и местного медиарынка. Таких нашлось немного.
Моя должность называлась «директор по связям с общественностью». Пожалуй, я оказался одним из первых в России, в чьей трудовой книжке появилась такая запись, и до сих пор друзья в шутку называют меня в числе «отцов-основателей отечественного PR». Как однажды сказал руководитель проекта Пол Боград, PR – это «не правда и не ложь», это может быть не совсем вся правда, но это никак не может быть ложью. PR – это всегда создание возможностей для выруливания ситуации в позитивную сторону. Такое определение я запомнил навсегда.
Факт, что сейчас деятельность Агентства USAID запрещена в России, но, как говорится, из песни слова не выкинешь…
- Затем вы занимали должность заместителя директора Департамента общественных связей Центрального банка РФ. Именно в этом статусе проводили самые известные и значимые информационные кампании – по деноминации рубля и в связи с дефолтом 1998 года.
- Дело в том, что любые денежные реформы, которые проводились в стране ранее, были конфискационными, и люди боялись, что деноминация станет очередным ударом по кошельку. Волна беспокойства могла бы вызвать панику с непредсказуемо тяжелыми последствиями. И мы решали эту проблему методами PR. К примеру, с помощью психологов выбрали актеров, которым больше всего доверяют люди - актерам лично и по их ролям. Сделали ролики, которые крутили на федеральных телеканалах. Градус недоверия угасал.
…Однажды я пришел рассказывать о новых денежных знаках на программу Муз-ТВ, которую вел Саша Пряников. Там такая крутая молодежь была в его команде, и я спросил его буквально, не слабо ли сделать интервью с Примадонной нашей эстрады о деноминации. Вызов был принят. Не знаю, где они ее застали, но Алла Борисовна сказала на камеру поддерживающие слова. Это видео крутили на всех каналах... Кстати, наша кампания по деноминации рубля была официально признана самой эффективной среди всех программ госструктур 90-х годов.
А во время дефолта 1998 года мы с первого дня организовали горячую линию - увы, рассказать было нечего, поэтому главным образом слушали и старались как-то утешить. Звонившие рыдали и жаловались, угрожали и сомневались. Молодые сотрудники не выдерживали такой нагрузки, даже падали в обморок. И так обидно было, когда в одной влиятельной газете вышла заметка про нашу горячую линию «Центробанк: секс по телефону». Вот тогда я по-настоящему разозлился на эту редакцию.
Мы быстро запустили антикризисную программу, она помогла властям выравнивать ситуацию.
- В 90-е годы любая хоть сколько-нибудь значимая персона ходила по краю, рискуя получить заказную пулю. А вы, человек, который владеет информацией, чувствовали опасность?
- К сожалению, среди моих знакомых и коллег были люди, не дожившие по этой причине до наших времен. И со мной случился один малоприятный эпизод. Вскоре после дефолта позвонил давний товарищ, с которым мы вместе работали в журналистике, а потом он тоже перешел на нашу сторону - стал директором по связям с общественностью в крупном частном банке. Настоял на встрече и настоятельно просил самый последний протокол совета директоров Центробанка. Я пытался убедить, что не имею к этому документу никакого отношения. В ответ он, глядя мне в глаза, сказал: «Найди или можешь получить топором в лоб». Самое жуткое, что этот протокол лежал у меня в столе, я с него по какому-то поводу делал пресс-релиз. Мой собеседник явно не шутил, но события развивались в те дни так стремительно, что заветный документ очень быстро потерял актуальность. С этим товарищем мы позже встречались. Он пытался объясниться, что решал рабочие задачи.
- Как вы оцениваете работу пресс-служб нынешнего руководства страны и нашего региона? Внесли бы какие-то предложения по улучшению информационной политики?
- У меня нет особых отношений с нынешней президентской администрацией. Но своим студентам я советую следить за деятельностью пресс-секретаря президента. Дмитрий Сергеевич Песков очень профессионален. Рядом с первым лицом должен быть человек, который очень хорошо понимает свои задачи и может коммуницировать от его имени. Песков в этом смысле представляется фигурой почти идеальной. Он не боится брать на себя ответственность. За что ему иногда и попадает, как признавался сам Владимир Владимирович… Примечательна работа Марии Владимировны Захаровой в Министерстве иностранных дел. Ее комментарии бывают довольно личностными, но это – еще одно свидетельство доверия со стороны руководства министерства. Смотрите, насколько быстро и четко она реагирует - это достойно уважения.